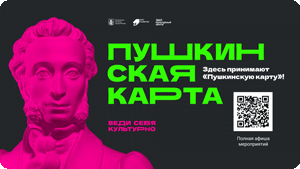Дебош от французского «разврат, распутство, разгул», а по-нашему – буйство, веселый разгул с попойкой и дракой, кутеж, распутство.
По Ожегову дебоширство – буянство, возможно, на почве подпития; хулиганство, и как следствие – скандальность. По Ушакову – поведение и поступки дебошира, человека, устраивающего дебоши. Еще в воспоминаниях князя Куракина есть описание Лефорта, сподвижника Петра I: «дебошан французской», а кутеж в его доме - «дебошство, пьянство так великое».
Но тут, дело скорее не в словарных значениях устаревшего слова или его исторических оценках, а в жанре представления. Режиссер Александр Синотов охарактеризовал спектакль как «Изящное дебошанство в эпоху Екатерины Великой”, да и Санька, героиня пьесы возмущалась: «пошлите меня гусей пасти – не слушаются меня эти кобылищи. Всю ночь учила их изящному дебошанству, они опять за свое мужицкое…».
Потому, в спектакле А. Синотова дебошанство как действо, а главные дебошаны – артисты курса А. Толшина.
Нимфы аля дворовые девки – бесподобны. Каллиоппа – «О-па», она же дворовая Дуняша (Воронцова), она же девка в цветастом платке, поющая в деревенском хоре унывные песни, она же стремительно пугающаяся чего-то, может, нас, зрителей, или изящного перевоплощения в музу с Олимпа, на котором ни ягод, ни грибов.
Потешно летал по сцене дворовый Никитка (Мешалкин) в козлячих коротких штанишках и с витыми рожками на голове. Этакий сатир по-рязански. Харизматичным получился леший, или Федор (Хацкин). Его монотонная речь о посевах, лошадях некормленых, простое в мужицкой работе, и «хохотать-то еще потребуется» вместе с неожиданным появлением перед царицей, надо сказать, в спектакле просто форс-умора, которая вызвала взрыв хохота. Хорош леший! Даже залу сказал «Извините!».
Санька (Иванцова), баба простая, но с глубоким выразительным голосом и кудрявой челкой. Конечно, ответить на вопрос «любит ли она Микитку» сложно, но вот на фразу Княгини «Не плачь, Саня, велю ему на тебе жениться и еще пригрожу как нужно. Хочешь?» эта Санька не могла ответить как в литературном оригинале «Очень вами довольна, сударыня», что и слава богу, и ответила просто «хочу». Ощутимо, что у нее уже сил нет на этот изящный беспредел, хоть и пытается угодить барыне.
Прекрасное попадание в образ царицы Екатерины II (Заключаева), с манерами, походкой, движениями, властным и повелительно-благосклонным, где-то и снисходительным взглядом, и при этом удивительно чувствительно соблюдался водевильный посыл – месть уже немолодой женщины.
Фрейлина Полокучи (Блошко) получилась с горячим грузинским темпераментом женщина, с игривой развязностью. Грим Полокучи – четкий, прям боевой раскрас охотницы за любовными приключениями. Еще бы акцент легкий грузинский... Видно было, что актриса ролью забавляется в удовольствие.
Княгиня (Паутова) изящна и тонка, словно фарфоровая статуэтка; сшитые по фигуре актрисы костюмы удивительно четко подчеркивали воздушный образ героини, которая с мечтательной непосредственностью готова была броситься с обрыва, но так, чтобы картинка последствий суицида осталась прекрасна и романтична, с голубками и мавзолеем. Княгине (Паутовой), на мой взгляд, удалось создать у зрителя ощущение невесомости наивных чувств, и отражением тому служит изящная лубочная картинка - актриса, сложа ручки и вперив меланхолически глаза долу, словно золотисто-белое облачко смотрелась на качелях, на которых ее поднял вверх Завалишин (Дунай).
Образ князя Серпуховского (Колязин) комичный. Эмоции неловкого и мнительного немолодого мужа актер выразил нелепыми поскоками и потряхиваниями даже в сцене поединка на шпагах. Сцена с фехтованием интересная. Еще интереснее сцена с качелями, где качели в полном смысле являются индикатором эмоций пары - эксцентричной Полокучи (Блошко) и смущенного Князя (Колязина). Когда качельное пространство заняла другая действующая пара Княгиня (Паутова) и Завалишин (Дунай), то впечатление несколько снизило градус смеха, но отыгралось на контрасте. В общем, качели – находка. «Раскачали» и зрителя.
Решето, шут (Чушков) почему-то напоминал гоголевского Бобчинского со взбитым хохолком на голове, только лицо веснушками утыкано. Наверно, потому и Решето. После исполнения Петушка актер, кажется, взбодрился, появилась мимическая оценка удрученности. А во фляжке вода была?
О деталях. В спектакле было большое количество ярких реплик и выразительных деталей. Конечно, многие реплики в большинстве своем из книги, но оценка, которую задавали этим репликам актеры, щекотала прыснуть смешком даже тех, кто пытался сидеть тихо и никому не мешать. Детали, не ускользнули от зрителя и внесли в образы дополнительный шарм и даже создали некую историю: зевок ряженой нимфы (Воронцовой) или Санька (Иванцова), которая нюхает письмо царицы, как нечто заграничное...
Отдельно – про хореографию спектакля. Это танцы в стилистике заявленного гривуазного изящества и дебошанства. Причем парные танцы великолепно отражали символику взаимоотношений героев, и без слов, можно было все понять по жестам и поворотам. Так, в танце Княгини (Паутовой) и Завалишина (Дуная) все жесты подтекстовые, ясен смысл подачи, как в театре Возрождения. Танцем были выражены эмоции героев, семиотика их чувств. Великолепная хореографическая задумка. Вот бы еще такие пластические взаимоотношения развить между другими парами. Было такое ожидание. Но... Где-то диалоги были затянуты, хотелось уже перейти к танцам или песням.
Надо сказать, дебошанство проникло и в танец, и в песню под музыку Г. Бреговича, Э. Кустурицы, М. Глинки. О пении. Это яркие и сочные песни деревенского хора, удивительно слаженного, с замечательными запевками смешными - «ананас», и жалостными - «котики не плачут». А вот сольное пение дворовой Дуняши (Воронцовой) не то что душещипательное, а просто вырви сердце, голос очень звонкий и трогательный, на мой взгляд, стал украшением спектакля.
Финал, конечно, грустненький: осталась наша Даша, как говорится, грустить у окна: без любви, без мужа, без надежды. Но зрители, тоже оставшиеся без хеппи-энда, вроде, были без претензии. Покидая зал, улыбались. Видимо, переворачивание всего с ног на голову, от «скоромных» страниц в жизнь, и наоборот, вполне закономерно отразилось и в заключительной сцене. В затухающих лучах прожектора золотые буквы на книге медленно ускользали во мрак финального подтекста. Атмосферное настроение было закреплено. Оставалось о чем задуматься. А книжица, как ни крути, была стащена из театра зрительским сознанием для индивидуального осмысления.
И, напоследок, про поклоны. Это отдельная история и отдельная благодарность! У каждого персонажа поклон случился по-особенному, в точку образа, в русле отношений или противопоставления пары. Спасибо!
По Ожегову дебоширство – буянство, возможно, на почве подпития; хулиганство, и как следствие – скандальность. По Ушакову – поведение и поступки дебошира, человека, устраивающего дебоши. Еще в воспоминаниях князя Куракина есть описание Лефорта, сподвижника Петра I: «дебошан французской», а кутеж в его доме - «дебошство, пьянство так великое».
Но тут, дело скорее не в словарных значениях устаревшего слова или его исторических оценках, а в жанре представления. Режиссер Александр Синотов охарактеризовал спектакль как «Изящное дебошанство в эпоху Екатерины Великой”, да и Санька, героиня пьесы возмущалась: «пошлите меня гусей пасти – не слушаются меня эти кобылищи. Всю ночь учила их изящному дебошанству, они опять за свое мужицкое…».
Потому, в спектакле А. Синотова дебошанство как действо, а главные дебошаны – артисты курса А. Толшина.
Нимфы аля дворовые девки – бесподобны. Каллиоппа – «О-па», она же дворовая Дуняша (Воронцова), она же девка в цветастом платке, поющая в деревенском хоре унывные песни, она же стремительно пугающаяся чего-то, может, нас, зрителей, или изящного перевоплощения в музу с Олимпа, на котором ни ягод, ни грибов.
Потешно летал по сцене дворовый Никитка (Мешалкин) в козлячих коротких штанишках и с витыми рожками на голове. Этакий сатир по-рязански. Харизматичным получился леший, или Федор (Хацкин). Его монотонная речь о посевах, лошадях некормленых, простое в мужицкой работе, и «хохотать-то еще потребуется» вместе с неожиданным появлением перед царицей, надо сказать, в спектакле просто форс-умора, которая вызвала взрыв хохота. Хорош леший! Даже залу сказал «Извините!».
Санька (Иванцова), баба простая, но с глубоким выразительным голосом и кудрявой челкой. Конечно, ответить на вопрос «любит ли она Микитку» сложно, но вот на фразу Княгини «Не плачь, Саня, велю ему на тебе жениться и еще пригрожу как нужно. Хочешь?» эта Санька не могла ответить как в литературном оригинале «Очень вами довольна, сударыня», что и слава богу, и ответила просто «хочу». Ощутимо, что у нее уже сил нет на этот изящный беспредел, хоть и пытается угодить барыне.
Прекрасное попадание в образ царицы Екатерины II (Заключаева), с манерами, походкой, движениями, властным и повелительно-благосклонным, где-то и снисходительным взглядом, и при этом удивительно чувствительно соблюдался водевильный посыл – месть уже немолодой женщины.
Фрейлина Полокучи (Блошко) получилась с горячим грузинским темпераментом женщина, с игривой развязностью. Грим Полокучи – четкий, прям боевой раскрас охотницы за любовными приключениями. Еще бы акцент легкий грузинский... Видно было, что актриса ролью забавляется в удовольствие.
Княгиня (Паутова) изящна и тонка, словно фарфоровая статуэтка; сшитые по фигуре актрисы костюмы удивительно четко подчеркивали воздушный образ героини, которая с мечтательной непосредственностью готова была броситься с обрыва, но так, чтобы картинка последствий суицида осталась прекрасна и романтична, с голубками и мавзолеем. Княгине (Паутовой), на мой взгляд, удалось создать у зрителя ощущение невесомости наивных чувств, и отражением тому служит изящная лубочная картинка - актриса, сложа ручки и вперив меланхолически глаза долу, словно золотисто-белое облачко смотрелась на качелях, на которых ее поднял вверх Завалишин (Дунай).
Образ князя Серпуховского (Колязин) комичный. Эмоции неловкого и мнительного немолодого мужа актер выразил нелепыми поскоками и потряхиваниями даже в сцене поединка на шпагах. Сцена с фехтованием интересная. Еще интереснее сцена с качелями, где качели в полном смысле являются индикатором эмоций пары - эксцентричной Полокучи (Блошко) и смущенного Князя (Колязина). Когда качельное пространство заняла другая действующая пара Княгиня (Паутова) и Завалишин (Дунай), то впечатление несколько снизило градус смеха, но отыгралось на контрасте. В общем, качели – находка. «Раскачали» и зрителя.
Решето, шут (Чушков) почему-то напоминал гоголевского Бобчинского со взбитым хохолком на голове, только лицо веснушками утыкано. Наверно, потому и Решето. После исполнения Петушка актер, кажется, взбодрился, появилась мимическая оценка удрученности. А во фляжке вода была?
О деталях. В спектакле было большое количество ярких реплик и выразительных деталей. Конечно, многие реплики в большинстве своем из книги, но оценка, которую задавали этим репликам актеры, щекотала прыснуть смешком даже тех, кто пытался сидеть тихо и никому не мешать. Детали, не ускользнули от зрителя и внесли в образы дополнительный шарм и даже создали некую историю: зевок ряженой нимфы (Воронцовой) или Санька (Иванцова), которая нюхает письмо царицы, как нечто заграничное...
Отдельно – про хореографию спектакля. Это танцы в стилистике заявленного гривуазного изящества и дебошанства. Причем парные танцы великолепно отражали символику взаимоотношений героев, и без слов, можно было все понять по жестам и поворотам. Так, в танце Княгини (Паутовой) и Завалишина (Дуная) все жесты подтекстовые, ясен смысл подачи, как в театре Возрождения. Танцем были выражены эмоции героев, семиотика их чувств. Великолепная хореографическая задумка. Вот бы еще такие пластические взаимоотношения развить между другими парами. Было такое ожидание. Но... Где-то диалоги были затянуты, хотелось уже перейти к танцам или песням.
Надо сказать, дебошанство проникло и в танец, и в песню под музыку Г. Бреговича, Э. Кустурицы, М. Глинки. О пении. Это яркие и сочные песни деревенского хора, удивительно слаженного, с замечательными запевками смешными - «ананас», и жалостными - «котики не плачут». А вот сольное пение дворовой Дуняши (Воронцовой) не то что душещипательное, а просто вырви сердце, голос очень звонкий и трогательный, на мой взгляд, стал украшением спектакля.
Финал, конечно, грустненький: осталась наша Даша, как говорится, грустить у окна: без любви, без мужа, без надежды. Но зрители, тоже оставшиеся без хеппи-энда, вроде, были без претензии. Покидая зал, улыбались. Видимо, переворачивание всего с ног на голову, от «скоромных» страниц в жизнь, и наоборот, вполне закономерно отразилось и в заключительной сцене. В затухающих лучах прожектора золотые буквы на книге медленно ускользали во мрак финального подтекста. Атмосферное настроение было закреплено. Оставалось о чем задуматься. А книжица, как ни крути, была стащена из театра зрительским сознанием для индивидуального осмысления.
И, напоследок, про поклоны. Это отдельная история и отдельная благодарность! У каждого персонажа поклон случился по-особенному, в точку образа, в русле отношений или противопоставления пары. Спасибо!