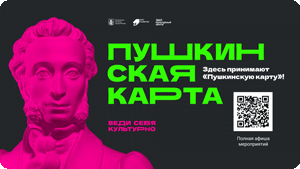Последний котильон. По мотивам произведений Бориса Голлера «Сто братьев Бестужевых», «Вокруг площади», «Петербургские флейты». — Учебный театр «На Моховой» (Санкт-Петербург). Режиссер Юрий Красовский.
Ваш последний котильон! Почему последний?..
Просто котильон — последний танец бала!
Но будет следующий бал!.. Ничего не будет!..
Борис Голлер. «Сто братьев Бестужевых»
Можно ли считать свидетельством взросления факт осознания себя как существа смертного, и смертного бесповоротно?
На момент восстания действующим лицам было: Николаю Бестужеву — 34 года, Александру Бестужеву — 28 лет, Михаилу Бестужеву — 25 лет, их младшим братьям Петру и Павлу — 21 год и 17 лет, Кондратию Рылееву — 30 лет; будущему императору Николаю I — 29 лет, его младшему брату, великому князю Михаилу Павловичу — 27 лет. По современным меркам, все — либо совсем молодые, либо довольно еще молодые люди, хотя сейчас и принято говорить, что «тогда взрослели раньше». Впрочем, никакого единого представления о том, что следует понимать под «взрослением», не существует. Что это: наличие жизненного опыта? В таком случае — насколько очевидно то, что сегодняшние 25–30-летние обладают жизненным опытом меньшим, нежели их сверстники из позапрошлого века?
Итак, можно ли считать свидетельством взросления факт осознания себя смертным? Если да — то и в этом случае едва ли можно возлагать на тогдашних молодых людей больше ответственности и предполагать в них больше понимания того, на что они шли. Это не означает, что они не понимали, к чему себя готовить, — вполне понимали. Более того, все они были офицерами, а значит, их помимо разнообразных наук и правил обхождения в обществе учили еще и презрению к смерти. Но кровь их была не менее горяча, чем кровь молодых сегодняшних, а может быть, и более, и едва ли можно списать со счетов их молодость — молодости присущ романтизм, обостренное чувство справедливости, если угодно, поэзия. И, быть может, угасание этого романтизма и замена поэзии прозой — если не точное определение, то вполне справедливая метафора взросления. Прозой, которая порой оборачивается нездоровым консерватизмом и глухим неприятием всего нового.
В судьбе Бориса Голлера был период, когда его пьесы не звучали со сцены на русском языке, — примерно двадцать лет. Это значительный срок, особенно если учитывать, с каким успехом шли первые их постановки: со спектакля «Сто братьев Бестужевых», поставленного Владимиром Малыщицким в 1975 году, фактически начался Ленинградский Молодежный театр (ныне — Театр на Фонтанке). В этом смысле «Последний котильон» — событие, значимое уже фактом своего существования. С другой стороны, то, что в спектакле заняты не профессиональные актеры, но студенты Института сценических искусств (РГИСИ, бывшая Академия театрального искусства — СПбГАТИ), и притом не выпускного курса, а всего только пятого семестра, делает его не менее, а может быть, и более интересным: в декабристах важно очарование молодости, стремление сделать революцию «парадом молодых и свежих сил», порыв во имя высшей идеи уважения к человеку. В противном случае при всем желании трудно было бы оправдать произошедшее: на Сенатской (тогда — Петровской) площади в день 14 декабря 1825 года погибло более тысячи двухсот человек. Император Николай, когда Михаил Бестужев признает перед ним свою вину, говорит ему — важно, что и в пьесе, и в спектакле в большинстве сцен царь не кричит, но именно говорит, притом довольно тихо: «Что мне с твоей вины? Это воротит их с того света, что ли?». Нужно сказать, что Николай I и его брат Михаил в исполнении Петра Севенарда и Сергея Серегина настолько убедительны, что временами равновесие зрительского сочувствия очевидно склоняется на сторону Романовых, в то время как текст предполагает равное сопереживание обеим сторонам.
Здесь, по-видимому, нужно сделать небольшое отступление: как в текстах Бориса Голлера, так и в постановке Юрия Красовского на переднем плане — стремление декабристов изменить старую, косную жизнь, и лишь в финале, когда мятежникам зачитывается приговор, произносятся слова об «умысле на цареубийство». 22 июля 1826 года русский поэт и государственный деятель Петр Андреевич Вяземский писал о восстании: «Помышление о перемене в нашем политическом быту роковою волною прибивало к бедственной необходимости цареубийства и с такою же силою отбивало, а доказательство тому: цареубийство не было совершено. Все осталось на словах и на бумаге, потому что в заговоре не было ни одного цареубийцы. Я не вижу их и на Сенатской площади 14 декабря, точно так же, как не вижу героя в каждом воине на поле сражения. Вы не даете Георгиевских крестов за одно намерение в надежде будущих подвигов: зачем же казните преждевременно и убийственную болтовню (…) ставите вы на одних весах с убийством, уже совершенным»1. И ведь действительно: Михаил Бестужев охранял царя, был начальником караула внутренних покоев дворца, и — не поднял на будущего самодержца руку, и двигало им то же рыцарское чувство, которое подвигло его и его товарищей вывести на площадь полки и — «умышлять на цареубийство». Во всем этом нет и не может быть однозначности, как во всех случаях, когда долг сталкивается с чувством, необходимость — с совестью, и так далее — подобных бинарных оппозиций можно привести множество. Одно можно сказать с уверенностью: декабристы были революционерами-романтиками, верившими в то, что «низкие средства не ведут к высоким целям», и в этом, может быть, одна из причин их трагической неудачи, а их неудача, в свою очередь, — одна из причин того, что позже придут революционеры-прагматики, которые ради достижения своих целей не погнушаются никакими средствами.
Столкновение «поэзии» с «прозой» — одна из основных тем если не творчества Бориса Голлера в целом, то его драматургии; из этого столкновения возникает неразрешимый конфликт одних, обреченных на поражение (декабристы, выходя на Петровскую площадь, не слишком надеются на победу: «…пока все идет, как надо! Мятеж — без войску и вождь без голосу!..»), и других, не желающих или не имеющих силы изменить существующее положение дел. Драма — не противостояние условных «добра» и «зла», но напряжение, возникающее между болью одного и болью другого. В этой ситуации размывается грань между правыми и неправыми, а в момент, когда проливается кровь, размываются и стираются вообще все грани: очень трудно сказать, кто виноват в этой крови, и если бы не пролилась она — кто сказал, что не пролилась бы другая? Очевидно, что пролилась бы. В каких масштабах? Это одному только Богу известно. Режиссер Юрий Красовский не упрощает взаимоотношений между персонажами и не изымает из текста сюжетных линий (а их немало, тем более что в постановке соединены две большие пьесы и повесть), благодаря чему спектакль, весьма сдержанный по части декораций и традиционный по решению костюмов, допускает не только режиссерскую, но и зрительскую трактовку: если такое суждение правомерно по отношению к театру, то в данном случае зритель настолько же свободен, насколько свободен читатель книги.
Сегодня декабристов забывают так же незаслуженно, как незаслуженно «романтизировали» их в советское время (неслучайно пьесы Бориса Голлера о декабристах имели столь трудную судьбу именно в советское время, противореча официальной идеологии слишком человеческой авторской позицией), впрочем, с историей во все времена обращаются примерно одинаково: ее либо забывают, либо переиначивают. В этом смысле художественный исторический текст для постановки на театре особенно сложен: он слишком легко превращается в публицистику, теряя многоплановость. Избежать этого в «Последнем котильоне» удалось не во всех случаях, и периодически актеры, обращаясь к залу, выразительно произносят текст, декламируя-декларируя позицию персонажа или автора. В литературе и, возможно, на театре также, важно уметь сказать все, не сказав ничего: есть хрестоматийный пример из флоберовской «Госпожи Бовари», в котором автор не сообщает, что героиню знобит, но заставляет ее сесть поближе к огню. В «Последнем котильоне» есть несколько замечательных сцен, в которых это сделать удается: так, когда в финале император выходит зачитывать приговор декабристам в одной рубашке и босиком — это производит сильное впечатление, но, помимо того что сильное, — и неоднозначное, побуждающее к размышлению. Прекрасен танец девушек, в котором кавалеров им заменяют ружья, хорош и финальный танец — «последний котильон» жен декабристов с идущими на смерть мужьями, который можно назвать одним из самых выразительных пластических жестов спектакля. Иными словами, метафора всегда была и остается основным инструментом искусства, и выход к прямому высказыванию крайне редко оказывается оправдан. Если литература — отчасти рассказывание истории, то театр — целиком и полностью ее проживание.
«Последний котильон» — постановка, в которой ощущается интонация текста: пожалуй, никакие изменения, которым обыкновенно подвергаются пьесы при перенесении на сцену, не сказываются на драме столь существенно, как изменение этой самой интонации — чего-то трудно уловимого и прочитывающегося не столько в словах, сколько между слов. В «Последнем котильоне» эта интонация сохранена и не сбивается все три часа сценического действия. В спектакле можно отметить несколько выдающихся актерских работ: помимо упомянутых братьев Романовых, глубокий и запоминающийся образ Михаила Бестужева удалось создать Владиславу Ставропольцеву, трагическую и трогательную Наталью Рылееву сыграла Анастасия Смоляниченко, очень хороша в роли Елены Бестужевой Ольга Ким. Очевидно, есть и другие интересные работы: в спектакле несколько актерских составов.
«Последний котильон» посвящен памяти Антона Кузнецова — трагически ушедшего из жизни режиссера «Декабристов», — спектакля, поставленного по трилогии Бориса Голлера в театре Де Л’Юньон (Франция, Лимож). В рецензии на «Декабристов» Кузнецова, показанных в 2014 году на сцене Малого драматического театра (Санкт-Петербург), театральный критик Елена Алексеева замечает: «Этические идеалы рыцарей чести и свободы (…) каким-то фантастическим образом передаются из поколения в поколение. И даже, как выясняется, перелетают через границы. Печально, что отечественная сцена этих героев не слишком жалует. Вроде и запретов никаких нет, но темы этой театры по-прежнему избегают. Теперь уже — по другим причинам. Слишком серьезно, слишком сложно, да и герои нынче — другого сорта»2 .
По всей видимости, что-то все же меняется к лучшему.